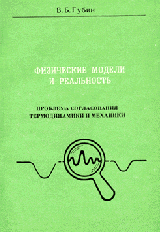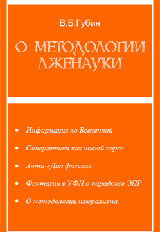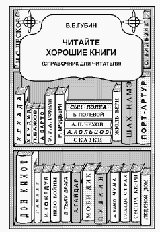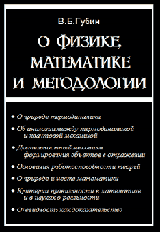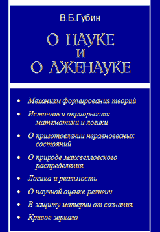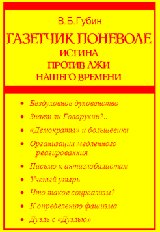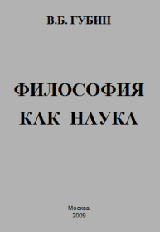|
Страница 3 из 21 I. 2. Таким образом, ясно видно, что Капра ни в коей мере не знаком ни с развитой европейской диалектикой, ни с теорией познания диалектического материализма. Именно поэтому ему для коррекции методики в плане исправления явных недостатков метафизического (недиалектического) материализма приходится направлять взор на некоторые положения идеалистической и весьма схоластической диалектики в целом давно устаревших старинных восточных учений.
Помимо этой философской неподготовленности Капра явно отличается еще и весьма легкими представлениями о весомости доводов и доказательств, а попросту говоря - удивительной доверчивостью, с которой он принимает за истину заявления мистиков (и вообще всех, кто говорит в пользу его мнения). При этом «мистическое» восприятие Капра сближает с представлением о всеобщей связи вещей и вечном становлении, т.е. с элементами диалектики, имеющейся в различных восточных учениях, а также у Гераклита, впрочем, не употребляя самого термина «диалектика». И в результате «...основную мысль этой книги можно ... описать так: современная физика предлагает нам тип мировосприятия, значительно напоминающий мистическое мировосприятие всех времен и традиций. ... Разница между мистицизмом Запада и Востока заключается в том, что на Западе мистические школы всегда играли побочную роль, в то время как на Востоке они были основой большинства религиозных и философских систем.» (С. 14)
Капра верно поднял одну важную проблему понимания мира человеком. Он говорит, что человек западной культуры воспринимает внешний мир «как множество отдельных вещей и событий». (С. 18) «В отличие от западных механических воззрений, восточные мистики смотрят на все чувственно воспринимаемые предметы и явления как на различные взаимосвязанные аспекты единой высшей реальности. Наше стремление разделить мир на отдельные самостоятельные вещи ... буддисты могли бы рассматривать как иллюзию, порожденную нашим оценивающим анализирующим сознанием, и обозначить при помощи термина «АВИДЬЯ» (невежество)...» (С. 19) Можно ручаться, что Капра не знал о том, что полтора века назад один из основоположников диалектического материализма писал в первом тезисе о Фейербахе о недостаточности прежней формы материализма - метафизического: «Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и фейербаховский – заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно.» [11] Можно было бы подумать, что этот тезис поддерживает взгляд тех самых восточных воззрений. Однако их недостатком является как их идеалистическая природа, так и недопустимая, нереалистическая абсолютизация принципиальных моментов (в данном случае абсолютизация субъективности), на что Капра не обращает критического внимания. И эти недостатки, густо сдобренные схоластикой (непроверенностью практикой, необоснованной надуманностью, искусственностью построений, в том числе чрезмерными аналогиями и экстраполяциями), вообще неизбежной на зачаточно-научном уровне познания природы, рождает уродливые нереалистические концепции, приемлемые на первый, поверхностный взгляд, но не пригодные для руководства в развитой науке.
Вот и Капра шаг за шагом неосторожно приближается к основанию своего ошибочного взгляда: «...школы восточного мистицизма ... подчеркивают принципиальную целостность Вселенной... Высочайшая цель их (индуистов, буддистов, даосов) - осознание единства и взаимосвязи всех вещей, преодоление ощущения своей изолированной индивидуальности и слияние с высшей реальностью.» (С. 19)
Капра, вместе со многими последователями восточных учений недиалектически доводя до абсурда идеи восточных философий, приближается к представлению об абсолютной связи вещей, полной их несамостоятельности. А в наиболее авторитетных течениях господствовало именно представление об абсолютной относительности всех «иллюзий» ([12], с. 248). В результате он наталкивается на два связанных препятствия. Нормальная диалектика утверждает лишь относительную самостоятельность вещей. При абсолютной же их несамостоятельности они никак не обнаруживались бы без всего остального, не наблюдались бы. И мы сами не могли бы никаким образом и ни в какой мере выделяться из среды. Само по себе ощущение, даже если оно нам кажется, есть состояние относительно выделенной части материи. При этом исчерпывающая связь с остальным материальным миром теряется. Реакция ощущения на внешний мир, а именно в сфере ощущений мы и живем, есть упрощение неисчерпаемо сложных воздействий внешнего мира. И именно это упрощение выделяет нас из всего остального мира. В такой ситуации полное «слияние с высшей реальностью», исчерпывающее чувствование всего мира, для живого, чувствующего существа, во-первых, невозможно, а во-вторых - означало бы исчезновение этого упрощения, т.е. ощущения. Другими словами, означало бы смерть. Ощущение и полнота отражения несовместимы.
В некоторых восточных представлениях полагается специальной, в том числе медитативной практикой достигать «слияния» и навсегда останавливать «страдание» путем остановки движения дхарм - как бы атомов качеств и чувств. Обычная смерть - рассоединение конкретных дхарм - не останавливала бы образования в будущем других существ (реинкарнаций). Однако эта остановка, разумеется, нереалистична. При всеобщей связи вещей потребовалось бы остановить вообще всё движение, чего до сих пор не наблюдалось ни у каких будд, не говоря уж о смехотворности такой попытки в глазах нормальных ученых.
Ниже Капра цитирует и пишет: ««Входя в чистейшее САМАДХИ, обретаешь проницательнейшее прозрение, позволяющее осознать абсолютное единство Вселенной.»» (С. 109) «В обычной жизни мы не осознаем этого единства, разделяя мир на самостоятельные предметы и события. Безусловно, это разделение помогает нам иметь дело с нашим повседневным окружением, не являясь, тем не менее, фундаментальным свойством действительности.» (С. 108) Однако это отрицание фундаментальности, поставленное здесь как абсолютное отрицание, как утверждение всеобщей тождественности, явно чрезмерно. Ведь тогда нашей «иллюзии» предметов и каких-либо изменений не на чем было бы возникать, и наше «разделение» никак и ни в чем нам не помогало бы. Все же для возможности возникновения «иллюзии» и для какой-либо успешности пользования этими якобы полностью иллюзорными «разделениями» необходимы очень даже фундаментальные основания в самом реальном мире. А именно - как минимум действительная его неоднородность. И, по-видимому, не такая уж жесткая и неограниченная взаимосвязность. В противном случае любая ошибка в «иллюзии» приводила бы к катастрофе, следовательно - и любая «иллюзия» вообще, так что не было бы никаких «иллюзий» и вообще ничего, в том числе и нас самих. Таким образом, местами вроде бы диалектические «восточные» философии на самом деле диалектичны обрывочно, эклектически, разбавлены абсолютами и в целом нереалистичны. И критика с их позиций «западного» подхода с его разделением реальности на объекты и события, выяснения механизма разделения и последовательного его уточнения на основании расширяющегося опыта - неосновательна. Да и сами эти «восточные» учения широко пользуются «иллюзиями», например реинкарнациями, дхармами, кармой, да и самим Дао, о котором вообще не имело бы смысла и невозможно было бы говорить при абсолютной неверности «иллюзий». Впрочем, подобный тупик абсолютизации как относительности, так и различия и изменчивости европейскому подходу знаком: когда-то слишком ретивые последователи Гераклита вместо слов крутили пальцами, ибо ничто не выразимо: во-первых, его нет, во-вторых, пока говоришь, оно меняется и становится совсем-совсем другим.
|